Воскресный день в Петродворце
1
Слабость Петра к немецко-голландскому нет надобности лишний раз объяснять: Тиммерман, Немецкая слобода, борьба с боярской думой... В письмах к матери он смолоду подписывался "Petrus", а Меншикову писал русскими буквами: "Мейн либсте камарат, мейн бест фринт". Он не мог, конечно, предвидеть, что именно немцы когда-нибудь превратят Монплезир в изгаженную казарму и разобьют, разворотят Петергоф - разрушат Большой дворец, взорвут Марли, вырубят десять тысяч деревьев в парке, украдут "Самсона" и множество других статуй, оставят на месте каскадов груды камней.
Теперь здесь почти все восстановлено, Петергоф именуется Петродворцом, и по воскресеньям тут полным-полно народу, как бывало до войны и как будет, наверное, всегда. Полно в Верхнем саду, и в аллеях Нижнего парка, и у балюстрады на площадке перед Большим дворцом, откуда открывается перспектива ниспадающих террас с фонтанами и выводящим к морю каналом.
Если у вас имеется путеводитель, вы можете узнать, что знаменитые на весь мир фонтаны созданы Земцовым, Микетти, Браунштейном и Усовым. Вы можете почерпнуть еще немало полезных сведений, - скажем, что фонтан "Самсон", изваянный скульптором Козловским, символизирует победы Петра над шведами (легендарный Самсон - это Россия, а лев, как известно, герб Шведского королевства).
Но изучать путеводитель некогда. Уже полдень, а надо еще постоять в очереди, чтобы попасть в Большой дворец (туда пускают партиями, и нельзя ведь не побывать там, особенно в зале, стены которого сплошь составлены из портретов кисти Ротари).
Надо побывать и в Монплезире, и у каскада "Золотая гора", посмотреть дворец Марли, построенный в память посещения Петром Франции, и павильон Эрмитаж, и хотя бы половину из действующих теперь ста двадцати девяти фонтанов...

Наконец, не мешает и подкрепиться в открытом ресторане у моря, где тоже полно народу, а пиво (вы как раз мечтали выпить бутылочку) только что кончилось, и вы со спеху в огорчении чуть не забываете повешенный на спинку стула "ФЭД" или "Зоркий". А надо ведь еще и пощелкать! Желательно и самому сфотографироваться на фоне "Самсона" или в другом подходящем местечке.
Короче, к концу дня вы полны впечатлений. Пора и уезжать. Будет что вспомнить, не правда ли?
Что поделаешь с музейной толкотней, с недостатком времени, с тонкими различиями между любопытством и любознательностью! Однако оставим все это. Попытаемся вслушаться в плеск струй и голос веков. Увидеть - еще не значит понять.
2
Камер-юнкер Берхгольц, побывавший тут с посольством в 1721 году, вспоминал, как Петр сам ввел в канал перед дворцом флотилию с гостями, числом до 115 судов, а затем, стоя на площадке у балюстрады, сказал французскому послу Компредону: "У вас в Версале нет такого чудного вида, как здесь, где с одной стороны открывается море с Кронштадтом, а с другой виден Петербург".
Попытаемся представить, как выглядел тогда Петергоф. Может быть, Зубов поможет нам в этом.
А. Ф. Зубов был одним из первых петровских "пенсионеров", обученных за границей. И едва ли не первым нашим рисовальщиком, почти целиком посвятившим себя архитектурному пейзажу; его многочисленные, крупного формата гравюры, нарезанные по меди уверенной рукой, рассказывают о петровских победах на полях военных баталий и на поприще строительства. Эти рассказы суховаты, бесстрастны, но обстоятельно достоверны.
На петергофском листе Зубова можно увидеть, как выглядел в те времена Большой дворец, отделанный генерал-архитектором Леблоном. Дворец был невелик - двухэтажный, с центральным портиком и боковыми ризалитами (так называются части здания, выступающие вперед по отношению к основной линии фасада). Некоторыми чертами облика дворец отдаленно напоминал Версальский; Леблон был верен величественной сдержанности французского барокко.
Как и в других сооружениях петровского духа, здесь преобладала скорее линия, чем объем. Увенчанный характерной ярусной крышей с изломами дворец стоял на верху каскада как на пьедестале. Тут происходили ассамблеи, приемы, гулянья. Но уединяться от шумных празднеств царь предпочитал в Монплезире.
"Монплезир, - вспоминает Берхгольц, - был в то время небольшой хорошенький домик, украшенный множеством отборных картин".
После смерти Петра все здесь довольно быстро изменилось. "Недостроенная храмина", как называл Меншиков Россию после Петра, достраивалась уже не по петровскому плану. Ближайшие преемники Петра будто сговорились развивать все дурное, что было в его наследии, пренебрегая хорошим.
Жена Петра Екатерина, процарствовав два с половиной года, вела пустую жизнь, пируя ночи напролет и напрочь забывая о государственных делах. Казнокрадство, нередко случавшееся и при Петре, приняло невиданный размах. Крал каждый, кто был поближе к казне, а палачи из тайной розыскной канцелярии подтягивали на дыбу за неосторожно произнесенное слово о непорядках.
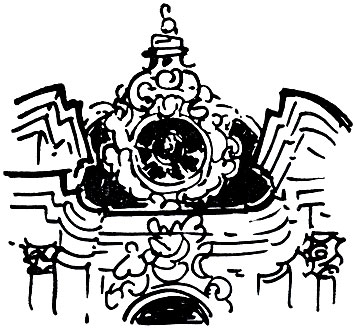
При императрице Анне роскошь царского двора умножилась. В неописуемо мрачное время бироновщины, в годы разгула тайной полиции с допросами, очными ставками, самыми жестокими пытками, внешние формы придворной жизни приобрели особый блеск. Золото и серебро мундиров и кафтанов, золоченые кареты с хрустальными стеклами, породистые лошади, итальянская опера, присланный из Дрездена драматический театр, придворный оркестр... Ко двору запрещено было являться дважды в одном и том же платье.
Некоторые историки, отмечая систему разорения высшего дворянства посредством неслыханной роскоши, полагали, что временщик Бирон, любимец Анны, сознательно стремился к этой цели.
Но когда кончилось время Бирона, когда новый временщик новой императрицы граф Миних отправил Бирона с семейством в Шлиссельбург (солдаты изрядно поколотили "каналью-курляндца" при аресте), разорение продолжалось. Правда, Елизавета, дочь Петра, внезапно взойдя на престол с помощью гренадерской роты Преображенского полка, в первый же день подписала указ, чтобы никто не носил ни золота, ни серебра, запретила производство парчи, отменила фейерверки - дела были плохи, казна трещала.
Но указ указом - вскоре снова начались балы, маскарады, и снова Петергофский парк озарился огнями иллюминаций и фейерверков, когда, по описанию маркиза де Кюстина, в каждой аллее огней было больше, чем листьев. Только разве что язык тут звучал другой: при "веселой императрице" Елизавете на смену немецкому в моду стал входить французский. Так длилось еще двадцать лет, и вот что писал об этих годах граф Никита Панин в своем докладе Екатерине Второй:
"Сей эпок заслуживает особое примечание: в нем все было жертвовано настоящему времени, хотениям припадочных людей и всяким посторонним малым приключениям в делах".
Русские вельможи разучились выражаться по-русски; но нельзя отказать отзыву графа Панина в образной меткости.
Сама императрица Екатерина, вступив на престол, писала об этом времени: "На штатс - конторе было семнадцать миллионов долгу. Ни единый человек в государстве не то чтобы знал, сколько казне было дохода, ниже не ведал званий доходов разных. Повсюду народ приносил жалобу на лихоимство, взятки, притеснения и неправосудия разных правительств, а наипаче приказных служителей".
Расшитые золотом кафтаны, муаровые орденские ленты, светло-зеленые елизаветинские мундиры с красным воротником и обшлагами, золоченые дутые пуговицы, лаковые блестящие ботфорты, круто выгнутые шпоры, шпаги с золотым темляком, эполеты, остроносые треуголки... Тяжелое великолепие женских нарядов - шлейфы, парча, штоф, все шито золотом и серебром, унизано драгоценными каменьями. Кружевные воротники, высоко зачесанные и густо напудренные волосы с жемчужными и бриллиантовыми нитями...
Посмотрите портреты кисти елизаветинских живописцев Антропова, Рокотова - как величественны позы, как фарфорово - нежны лица, как мудры взгляды, как милостиво-приветливы улыбки!

Такими хотели видеть себя жестокие крепостники, лукавые елизаветинские царедворцы.
Строения старого Петергофа казались Елизавете ничтожными. Скоро по бокам петровского Монплезира выросли две длинные, загнутые прямым углом галереи; перестройке подвергся и Большой дворец.
Время рождает своих художников. Перестройка дворца была поручена Варфоломею Растрелли.
В сущности, имя его было от рождения итальянское - Бартоломео; он был сыном скульптора и литейщика, приглашенного Петром в новую столицу "для литья пушек и художественных работ". Растрелли-отец появился в Петербурге около 1716 года; из многочисленных его работ сохранились лишь конный монумент Петра, поставленный позднее у Инженерного замка, да еще бюст царя и бронзовая статуя императрицы Анны, хранящиеся в Русском музее.
Судьба произведений Растрелли-сына оказалась куда более прочной. Екатерина Первая отправила его учиться на Запад. Вернувшись спустя пять лет, он пришелся как нельзя более ко двору: новая императрица задумала построить зимний дворец на берегу Невы, рядом с Адмиралтейством. Проект был поручен молодому Растрелли.

Эта работа сразу же ввела его в самые высшие придворные круги. Растрелли был умен, талантлив, европейски обходителен; он вскоре вошел в милость к Бирону, фактически управлявшему всеми делами государства, был сделан придворным обер-архитектором с большим ежегодным жалованьем. Он построил дворцы для "канальи-курляндца" в Митаве и на мызе Руендаль.
Когда Бирон угодил в Шлиссельбург, из его митавского дворца вырвали "с мясом" оконные рамы и сняли резные двери для строившегося тогда в Петербурге дома графа Разумовского, приверженца новой императрицы (позднее там был Аничков дворец, а теперь Дворец пионеров). Но дворцовые перемены и перевороты не вредили карьере Растрелли. Он участвовал в коронации Елизаветы, когда перед Грановитой палатой в Кремле были выставлены на угощение жареные быки, начиненные жареными птицами, а вокруг били фонтаны белого и красного вина. Теперь-то, в сущности, для Растрелли и наступило время наибольшей удачи.
Елизавета раздавала конфискованные дома аннинско-бироновских приспешников своим приверженцам - Разумовским, Шуваловым, Бестужевым, и надо было эти дома перестраивать на новый лад. Надо было продолжать постройку Зимнего, перестраивать старый Петергофский дворец и новый Царскосельский... Вот когда Растрелли смог развернуться в полную силу!
"Веселая императрица", быстро позабыв призывы к бережливости, не щадила никаких средств на постройки. Для одного лишь золочения лепных атлантов, ваз и статуй на крыше Царскосельского дворца было израсходовано до семи пудов червонного золота. Когда Елизавета приехала в Царское Село со своими придворными и послами - показать новопостроенный дворец, все сияло под солнцем, горело как жар. Многочисленные гости спешили выразить восхищение увиденным; один лишь французский посол стоял поодаль в глубоком молчании. На полушутливый вопрос Елизаветы, почему молчит, не находит ли недостатков, дипломатичный француз ответил: "Недостает лишь футляра на эту драгоценность".
Что говорить, послу, приученному к наружной сдержанности французского барокко, не мог прийтись по душе ослепительно-роскошный золотой блеск. Но с годами позолота потускнела (уже при Екатерине пришлось перекрасить атланты, вазы и статуи нажелто) и вместе с тем отчетливее проступила действительная ценность дворца - жизнерадостная гармония его архитектуры.
Трехсотметровый по фасаду, с тремя лентами окон, весь в наряде лепных украшений, с мускулистыми фигурами атлантов в нешироких простенках, с упругими завитками капителей колонн, картушей и кронштейнов, завершенный поверху длинным рядом декоративных статуй, Царскосельский дворец производил впечатление необыкновенной праздничности и великолепия. Здесь родилось сочетание лазурно - голубого поля стены с чистейшей белизной колонн и оконных наличников, карнизов и фронтонов. Это типично растреллиевское сочетание - зеленоватая голубизна северного неба, белизна облаков придают его сооружениям особенную, воздушную легкость.
Формы стиля барокко приобрели под рукой Растрелли свое, необщее выражение. В них не было ни итальянской чрезмерности чувства, ни французского суховатого аристократизма. Русская широта соединилась тут с величественным изяществом, царственное великолепие - с чувством меры.
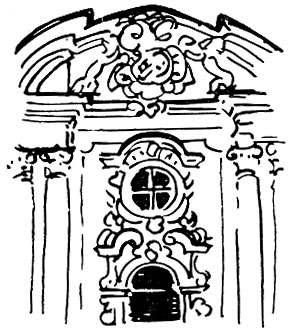
Итальянское барокко словно бы вспучивало поверхность стен, рвалось наружу, как рвались микеланджеловские "Рабы" прочь из мертвой толщи камня. Линии карнизов, фронтонов взбухали, будто напряженные до предела мышцы. Это внутреннее напряжение порою словно побеждало материю, превосходило ее сопротивление - так, мне кажется, возникли "разорванные" фронтоны, распространившиеся повсюду как один из характернейших элементов стиля.
Барочным церквам было как бы мучительно тесно на нешироких улицах Рима или Флоренции. Сжатые с боков старыми домами, они выражали свой протест, выдвигая, выплескивая наружу обильный рельеф: полнотелые статуи, лепные картуши, подчеркнуто пышные завитки волют и капителей. Стиснутые, они отвечали видоизменением геометрических форм: плоскость стены изгибалась, прямые углы исчезали, круг превращался в овал...
Ничего этого у Растрелли нет. Он ничем не стеснен, ни против чего не протестует. Ему довольно земли, неба, пространства, средств. Он как бы приглашает полюбоваться ясностью плана, спокойным ритмом, размеренным чередованием окон, колонн, изяществом рисунка карнизов, наличников, изысканной роскошью лепки, легкой чистотой сочетания лазорево-голубого с белым, оттененного бронзовыми тонами капителей, баз, решеток...

Зимний дворец, поднявшийся над Невой, дома-дворцы Воронцова, Строганова - все это было тоже барокко, но не итальянское и не французское. И не петровское, строго размеренное, чуть суровое барокко мастера Трезини. Это было новое, растреллиевское барокко, родившееся в свое время под своими небесами и внесшее свою ноту в петербургский аккорд.

Соборы Черниговского кремля, редчайший ансамбль памятников древней Руси. Здесь в недавних раскопках были найдены белокаменные рельефы - живое свидетельство происхождения владимиро- суздальской резьбы
Творчество Растрелли было большой школой строительного искусства; каменщики, лепщики, резчики по дереву, позолотчики, живописцы, чеканщики - все, чьи имена почти не сохранились, обнаружили вдруг такое совершенное мастерство, какому могла бы позавидовать Европа. А рядом с Варфоломеем Варфоломеевичем Растрелли (так с полным основанием называли его) выросли такие превосходные зодчие, как Савва Чевакинский (посмотрите при случае в Ленинграде построенный им Никольский Морской собор), или Андрей Васильевич Квасов, ученик Земцова, построивший в Козельце близ Чернигова собор, мимо которого невозможно проехать, не остановясь, чтобы полюбоваться его чистыми и стройными очертаниями.

Чернигов, 'Пятница на торгу'. XII век. Последний взлет древнерусского зодчества, оборванный нашествием и неволей. Далекое предвестье таких строений, как храм Вознесения в Коломенском

Колокольня Никольского военно - морского собора
3
Но не пора ли вернуться в людный по-воскресному Петродворец? Июньское солнце щедро отплачивает зимне-весенние долги. Фонтаны тоже не скупятся. Из разверстой Самсоном пасти льва взлетает на двадцатиметровую высоту упруго выгибающаяся, шумящая струя и рассыпается влажной пылью. Влажно блестит на солнце золотая спина Самсона, блестят его богатырские руки. Иной раз ветерок чуть обдаст влагой толпящихся зрителей - что ж, и это приятно.
Толпятся по-прежнему наверху, у балюстрады над каскадом и у растреллиевского дворца, лазорево-белого с горящим над крышей золотым орлом. Толпятся у фонтанов "Адам" и "Ева", и у каскада "Золотая гора", и в Монплезире - в комнатах Петра, в спальне, буфетной, в Парадном зале...

Коричневые дубовые панели, голландские картины в черных рамах, белизна лепного карниза, роспись в плафоне и полуциркульных медальонах сводов... В путеводителе сказано, что плафоны, украшающие Монплезир, "являются наиболее ранним образцом светской живописи в России" и что плафон Парадного зала "символизирует процветание России в начале XVIII века".
Не знаю, почему зал назван Парадным. Входя сюда, прежде всего вспоминаешь страницу истории, далеко не парадную. Ведь это здесь, судя по картине Н. Н. Ге, царь Петр допрашивал царевича Алексея. Вот и стол, голландской работы, с полированной тонкой крышкой и массивными витыми ножками. Правда, он не покрыт тяжелой ковровой скатертью, как на картине, но это тот же стол, и те же темно-коричневые стены, и тот же пол, мраморный, в крупную клетку, темно-серое с беловатым. Долговязый царевич в картине Ге стоит на этом полу, как обреченная шахматная фигура.

Где-то, не припомню где, я видел подпись царевича Алексея - шаткие, безвольные буквы с росчерком, точь-в-точь похожим на неумело нарисованный кукиш. Ничтожный, жалкий, встал поперек пути, и все же страшно думать о пыточных допросах с участием отца и о смертном приговоре.
Жестокость Петра, в приступах ярости собственноручно рубившего головы стрельцам и велевшего обрезать уши беглым солдатам, объясняют его заботами об упорядочении и процветании России. История склонна не слишком строго судить победителей. Но, кажется, об этом сейчас тут никто не задумывается - рассматривают картины, лепку, живопись плафона, проходят в Морской кабинет.
Какая-то девушка заглядывает сюда снаружи, в квадратно расстеклованное на голландский манер окно, приставив ладонь козырьком ко лбу и забавно приплюснув нос об стекло.
Трудно представить, что все это - и Монплезир, и растреллиевский дворец, и фонтаны - было разгромлено, разбито; что дубовая обшивка стен Парадного зала заново сделана нашими краснодеревцами, а изысканный Лаковый кабинет полностью возрожден художниками Палеха.
Тому назад двадцать лет, в такой же яркий солнечный день, только не июньский, а майский, я бродил по развалинам Цвингера в Дрездене. Обгорелый щебень хрустел под ногами, среди битого камня валялись обломки скульптур - головы кудрявых мальчуганов-путти с кокетливыми ямочками на щеках, пухлые детские ручонки с обломками каменных гирлянд.
Вот еще ровесники - XVIII век, барокко, королевские празднества... Август Сильный, как и Петр, коллекционировал диковины, устроил кунсткамеру, легко гнул подковы руками, не щадил средств на покупку картин, покровительствовал искусствам. Это он прислал императрице Анне ко дню коронации королевскую труппу актеров из Дрездена.
Царствующие особы любили обмениваться щедрыми подарками. В 1717 году прусский король прислал Петру бесценную Янтарную комнату, а Петр подарил в ответ 55 самых великорослых солдат. Янтарная комната находилась в Царскосельском дворце и бесследно исчезла в годы Отечественной войны. Может быть, ее еще найдут когда-нибудь; восстановить, сделать заново ее невозможно.
А Цвингер, говорят, восстановлен полностью. И, наверное, по воскресеньям там так же людно, как в Петергофе - Петродворце. Людно в залах Дрезденской галереи, поднятой из могил нашими солдатами. Людно в нарядном "версальском" дворе Цвингера, в "Купальне нимф", где тоже плещут водные струи. И кудрявые путти на балюстрадах снова беззаботно улыбаются кокетливыми ямочками на пухлых щечках, держа в ручонках каменные гирлянды цветов.
4
При Екатерине Второй в Петергофском парке построили бревенчатый деревенский дом, придав ему снаружи вид крайней ветхости и неряшества. Выбитые окна были занавешены рогожами, прогнувшаяся крыша казалась готовой рухнуть, скрипучая дощатая дверь еле держалась на петлях. Но стоило войти в эту дверь, как глазу представлялось волшебное зрелище. Внутри было устроено шесть роскошно отделанных комнат с зеркальными стенами, создававшими впечатление бесконечной анфилады.
"Maison de la folie", как называли это сооружение, не понравился императрице. Шутка была признана неудачной, дом со временем снесли. А жаль! Сооруженьице могло бы навести сегодняшнего посетителя на дельные мысли.
Впрочем, и снесли-то его, надо думать, по нежелательности размышлений о лице и изнанке, хотя дело с лицом и изнанкой обстояло как раз наоборот. Великолепные анфилады растреллиевских дворцов - Царскосельского, Петергофского, Зимнего - играли роль парадного фасада, а за этим...

О том, что крылось за внешним блеском придворной жизни, можно порассказать многое. Императрица Анна, окруженная неслыханной роскошью на парадных приемах, являвшаяся перед двором и послами в баснословно дорогих робах, сплошь ушитых драгоценными камнями, ходила во внутренних своих покоях повязанная платком на растрепанной голове, в засаленной красной кофте. В спальне "веселой императрицы" Елизаветы валялся на полу грязный прорванный тюфячок, на котором спал ее камер-лакей Чулков. Екатерина Вторая в своих записках рассказывает о временах Елизаветы, когда в домах богатейших вельмож вместе с гайдуками, гусарами и скороходами в нарядных ливреях сновала босоногая челядь в лохмотьях.
Подобные контрасты были не только свидетельством при крытой внешним лоском и блеском дикости и невежества. Они, в сущности, являлись отражением общего положения дел в стране.
Иноземные послы, понасмотревшись бриллиантового сияния на приемах, доносили своим правительствам: "При неслыханной роскоши двора в казне нет ни гроша, а потому никому ничего не платят". Россия изнемогала от неурожаев, пожаров, моровых эпидемий. Из крестьян выколачивали недоимки плетьми и палками. Тайная розыскная канцелярия свирепствовала; доносы, аресты, пытки стали самым повседневным делом. При Анне сослали в Сибирь более двадцати тысяч человек; многих ссылали без всякой записи, и насчитывались тысячи таких, о которых нельзя было найти следа, куда они сосланы.
Таков был общий фон, на котором возвышались построенные и строящиеся дворцы. По свидетельству современников, каменщики на кладке Царскосельского дворца получали три копейки в день. А доходы графа Миниха, универсального временщика, служившего Петру, Анне, Бирону, Елизавете и Екатерине, простирались до 90 тысяч в год.
Императрица Елизавета, как известно, оставила после себя 15 тысяч платьев, два сундука шелковых чулок, кучу неоплаченных счетов и недостроенный громадный Зимний дворец, где ей очень хотелось пожить перед смертью; она торопила Растрелли, чтобы тот поскорее отделал хотя бы личные ее комнаты. Но достраивался дворец уже при Екатерине.
5
"...Присылка книг доставит мне большое удовольствие; я с ума схожу от архитектурных книг; вся комната моя ими завалена, а мне все еще не довольно..."
Это из письма Екатерины литератору и философу Гримму, другу французских просветителей Дидро и Руссо, одному из многих европейских корреспондентов императрицы.
В другом письме к тому же Гримму она признавалась: "Знайте, что моя строительная страсть сильнее, чем когда-либо, и никакое землетрясение не истребило еще столько зданий, сколько мы воздвигаем. Стройка - вещь заколдованная: она пожирает деньги, и чем более строишь, тем более хочется строить. Это болезнь, как пьянство, или также род привычки..."
Взойдя на русский престол после тридцати семи лет дворцовых переворотов, беспорядочного правления, разорительных неурядиц, беззакония и невежества, Екатерина хотела видеть себя преемницей Петра, продолжательницей его дела. Сохранившийся в народной памяти образ даря, который "даром хлеба не ел, пуще всякого мужика работал", тревожил ее воображение; вот как она сама описывает один из своих будничных дней (не замечая пародийности описания): "...в одиннадцать часов утра... была у обедни, потом принимала в аудиенции, потом пробежалась за своим обедом пешком вдоль сада и набережной к Бецкому. После обеда я ездила в лодочке в Адмиралтейство; там я полила дегтем и ударила три раза молотком каждый из трех новых стопушечных кораблей, которые велела построить; оттуда я перешла на семидесятичетырехпушечный корабль, который, по приказанию моему, спущен на воду; пока я сама находилась на нем, он довез нас до Невского моста; там бросили якорь, мы сошли с него и на лодке возвратились в Адмиралтейство, через которое прошли пешком, чтоб сесть в карету и проехать оттуда на дачу обер - шталмейстера Нарышкина, где, исходив вдоль и поперек его рощи, мы поужинали и в 12 приехали сюда..."
"Сюда" - это значило в Петергоф, в блистательный растреллиевский дворец, отделку которого Екатерина продолжала, не щадя затрат (при ней заезжий итальянец, художник-путешественник граф Ротари и написал 328 женских головок для единственного в своем роде "портретного" зала).
В Петергофе теперь ежегодно пышно праздновался петров день. Екатерина всячески стремилась подчеркнуть преемственность. При этом она не скупилась на праздничные подарки: графу Безбородко - 4 тысячи душ крепостных Воронцову - 50 тысяч рублей... А Воронцовы, Безбородки, Нарышкины, Строгановы и другие екатерининские вельможи проматывали дареное, подражая императрице, соревнуясь в роскоши парадных охот, балов, ужинов и гуляний.

Сочиняя себе надгробную эпитафию, Екатерина назвала себя "женщиной с добрым сердцем и республиканской душой". Это не помешало ей казнить Пугачева и сослать Радищева в Сибирь, где он пробыл до конца ее царствования. Подводя итоги этому царствованию, ее любимый внук и наследник, будущий император Александр писал: "В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон, все части управления дурны, порядок изгнан отовсюду".
Вместе с тем екатерининское время было временем нового подъема русского зодчества. Именно в это время выросли Баженов, Казаков, Старов, расцвела Академия художеств, здание которой построил Кокоринов, ставший здесь первым профессором архитектуры.
Поэзия Державина, живопись Левицкого и Боровиковского, скульптура Шубина - все это порождено екатерининским временем, тесно связано с ним.
Как же понять эти связи? Как понять развитие или даже расцвет искусств на фоне времени, когда свободолюбивые мечты сталкивались с самой жестокой рабской действительностью?
Обращаясь к Гримму с просьбой подыскать в Италии двух умелых архитекторов, Екатерина шутливо рекомендовала прислать их ей из Италии в Петербург, "как тюк с инструментами". Шутка была, однако, не без подоплеки: царствующие особы и впрямь склонны были рассматривать "своих" зодчих, "своих" живописцев, "своих" скульпторов и "своих" поэтов лишь как инструмент для сооружения памятников собственного величия (этим, я думаю, в значительной мере объясняется и особенный интерес почти всех властных и славолюбивых правителей к архитектуре с ее монументальными, долговечными формами).
Но одним из "присланных" архитекторов был шотландец Камерон ("...я завладела Камероном", - хвастала в письме Екатерина), другим - итальянец Кваренги, и оба они вместе с русскими зодчими утвердили на своей второй родине новый стиль, в котором - хотела того Екатерина или не хотела - отразилось не столько царственное величие, сколько новые гражданственные идеи, которыми подспудно бурлила екатерининская Россия.

Этот стиль, получивший название русского классицизма, пришел на смену растреллиевскому барокко; говорить о нем надо в ином месте, не в Петергофе - Петродворце. Единственное здание, построенное тут в этом стиле архитектором Джакомо Кваренги, - Английский дворец - разбито до основания, разрушено фашистами в 1942 году.
Воскресный день близится к вечеру, народу поубавилось, пора и мне покинуть Петергоф - "...Места преузорочны! Где с шумом в воздух бьют стремленья водоточны... Где спорят меж собой искусство и природа..."

Петербургский классицизм
Русская поэзия екатерининских времен пробивалась сквозь вельможное косноязычие, как чистый родник сквозь камни. Последняя строка дает еще раз понять, чем был "старик Державин" для юноши Пушкина. Кажется, трудно точнее выразить прощальное впечатление, какое уносишь отсюда.
Спор искусства с природой - давний, благородный спор. Или, если хотите, извечное состязание, где нет и не может быть ни победителей, ни побежденных. Где бесконечности живых форм природы отвечает бесконечность творческих возможностей человека.
В этом состязании искусство не повторяет достигнутого природой. Оно сильно сознанием своей самостоятельной ценности, своей независимости, над которой не властны никакие правители.
Рассматривая портреты елизаветинских или екатерининских вельмож и "кавалерственных дам", тверже запоминаешь имена Антропова, Рокотова, Левицкого. В залах Большого Петергофского дворца, забывая о царственных владельцах, почтительно произносишь: "Растрелли..."
Я прожил много лет в Киеве. Любил и люблю побродить по его крутым улицам, постоять над просторами Днепра. Иной раз получается, что как-то само собой, вроде бы ненароком забредешь к Андреевской церкви. Чаще это бывает, когда на душе смутно, когда хочется собраться с мыслями, утвердиться в чем-либо.
Не берусь объяснить, чем именно помогает мне в такие минуты стройное, легкое, лазорево-белое творение Растрелли. Возможно, оно попросту укрепляет веру в силы и возможности человека. А это ведь и есть главный "секрет" и главная цель искусства.
|
|
При копировании обязательна установка активной ссылки:
http://townevolution.ru/ 'История архитектуры и градостоительства'